Дар'я Трайдэн
Повтор
Этот текст не удается мне по многим причинам. Во-первых, я все ещё тебя люблю. Во-вторых, я представляю лица всех, в кого была влюблена ты, и от злости забываю, зачем вообще нужно писать. В-третьих, хоть темой этого эссе является любовь, мне ещё предстоит узнать, что в моем чувстве к тебе является ею, а что – проявлением созависимости. Тавтология этого абзаца обнажает мою запутанность, невозможность отличить одно от другого. Возможно, если я смогу не употреблять любовные однокоренные, то закончу текст.
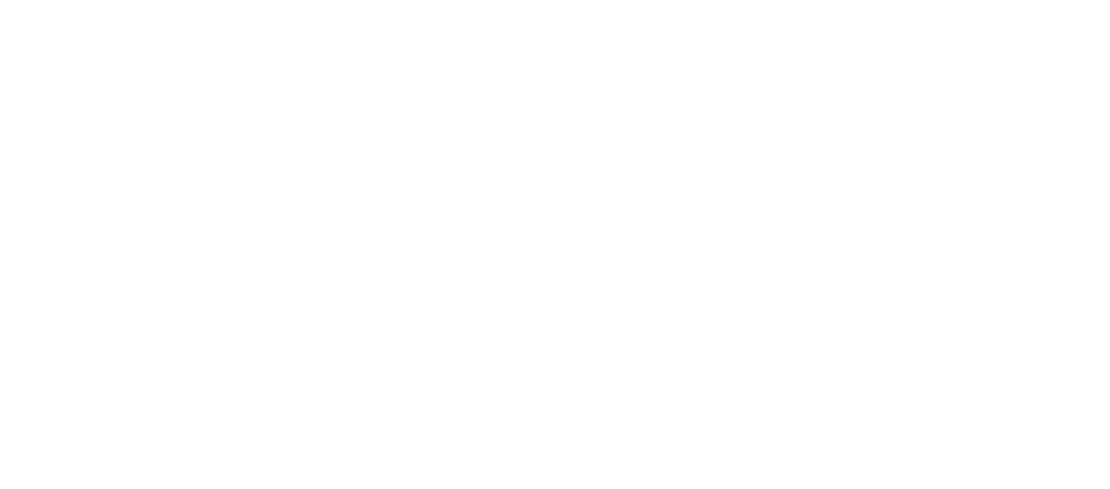
Я не писала с начала войны, то есть восемьдесят четыре дня. Очередная задержка менструации – это значит, что моя матка оккупирована этими фотографиями, этими новостями, они присоединяются к моему эндометрию, питаются моей кровью, толкаются по ночам, и я просыпаюсь с ярким образом последней сцены кошмарного сна. В феврале казалось, что всё закончится быстро, но уже май, и я смотрю, как красивые губы А. улыбаются под звуки воздушной тревоги. Некоторое время я думала, что чуточку влюблена, но мы видимся в Варшаве – и я ничего не чувствую. Вместо того, чтобы сразу идти в ее постель, я читаю Татьяну Замировскую: там снова отрывок про блаженство механических собак, который кажется мне историей про нашу с тобой зиму. Вспоминая, как мы сплетали руки на задних сидениях чужих машин, я не понимаю, как это могло исчезнуть. Перечитываю этот абзац спустя время и дописываю: вспоминая, я не верю, что это было. Временами кажется, что я так долго вынашивала этот текст, что начала придумывать и тебя, и наше прошлое. Это подозрение облегчает исход любви. Меня больше не волнует, что ты игнорируешь мои сообщения – тебя не существует, и я отправляю послания этому тексту, чтобы придать ему сил.

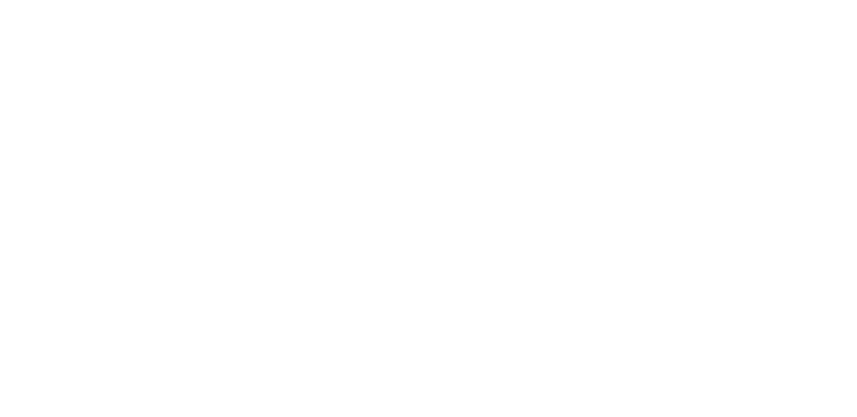
Сижу на террасе «Моби Дика». Через дорогу у шаурмичной «Рамиз» – две юные влюбленные девочки. Обе в светлых широких штанах и просторных байках, волосы – до плеч. Девочки стоят, соприкасаясь кроссовками, и словно бы надолго прощаются. Та, что повыше, приобнимает, утешает, но и ее плечи печально сутулятся. Они надолго застывают в такой позе. Обращенные друг к другу, напряжённые, они источают скорбь и нежность. Набирая ложкой суп, я не замечаю, как они уходят. Сегодняшний календарь плотно забит романтическими планами. Тиндер-встречи происходят одна за одной. Когда я возвращаюсь на террасу «Моби Дика», через дорогу снова прощается пара. На этот раз парень и девушка. Возможно, он уезжает, опасаясь призыва. Из-за войны твоя нелюбовь кажется преступлением, и я ненавижу себя за это примитивное переживание. Возможно, раньше мои чувства к тебе лучше подходили для сличения с любимыми книгами, но сейчас это популярная песня, играющая в такси, сериал нулевых, где красивая девушка одержима гневом и местью.
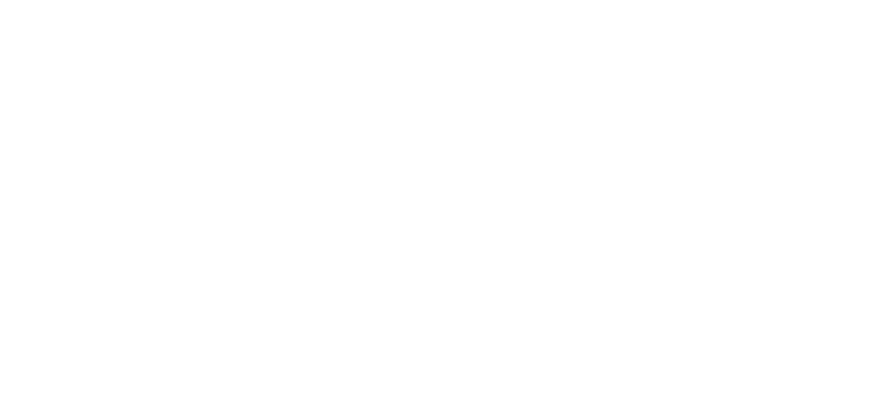
Август. Я пишу медленно и плохо, ем вредную и калорийную пищу. Тот единственный раз, когда я любила безответно, был таким же: ужасные тексты, кошмарная еда. Я располнела до 72 килограммов, и Маша снилась мне в унизительных жалких снах. Сейчас в весах сели батарейки, поэтому я не могу узнать, как далеко зашла.

У тебя были кружевные трусы и такой же лифчик, которые приводили меня в ужас. Некоторые комплекты тебе подарила мама. Иногда ты надевала белье своей бывшей: уезжая, она оставила часть вещей. Так тебе достались футболка с модным кривым тигром, дорогущий крем для лица, преподаватель по барабанам и трусы с высокой посадкой. Твое белье смешило меня несходством с простой и суровой одеждой. Оно казалось мне глупым, но глупой и неподходящей была лишь я.
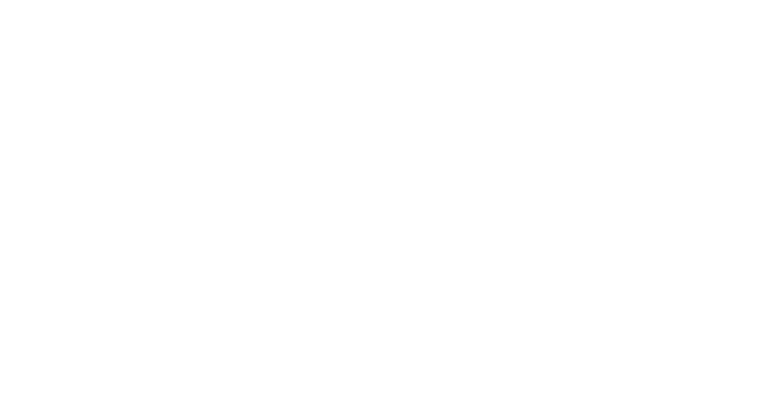
Мы познакомились в конце прошлой осени. Первым, до чего я дотронулась, были твои ступни: когда мы разговаривали, я протянула руку и стала массировать неглубокую ложбинку, свидетельствующую о плоскостопии. Ты отказалась снять носки. Потом тоже не позволяла смотреть, как одеваешься, раздеваешься, принимаешь душ, проходишь наискось по комнате утром. Всякий раз ты старалась меня отвлечь, но я украдкой всё равно узнавала, какая ты красивая. От наготы твои движения обретали особую мягкость и изящество, словно она была не состоянием тела, а пространством, которое ты крадучись пересекаешь.

Мы обе приехали на ретрит с книгами. У меня было эссе Ханны Арендт «О насилии», у тебя роман Лонг Литт Ву «О грибах и скорби».
Твоя книга оставалась то тут, то там: я находила ее лежащей на длинной деревянной скамейке, на коврике для йоги, в углу у окна. Мне нравилось прочитывать несколько строк, а потом класть книгу на колени, как будто теплом кожи можно добавить к тексту дополнительный смысл, и ты незаметно вычитаешь безбрежную нежность, мой долгий внимательный взгляд, новые жесты, которые мои руки изобрели специально под твое тело.

Сейчас август 2022 года. Я иду к Владе, которая болеет коронавирусом. Сую в окно творожное кольцо, а она передаёт мне небольшого кота по кличке Север. Сердце Севера бьётся у моего плеча быстро и сильно, и я завидую этому волнению. Такое сердце – это любовь. Мое сердце – не любовь, а умирание любви. Деконструкция процесса и объекта, забывание твоего запаха, неузнавание, помещение реальности на мясницкий ряд речи, на операционный стол письма. Пока Влада, первая издательница этого эссе, делает макияж, я брожу по двору и думаю о тебе. Ты недавно возила Владу в лес на свидание. История, которую я разоружаю при помощи текста, продолжает выскальзывать, заостряться, вонзаться.
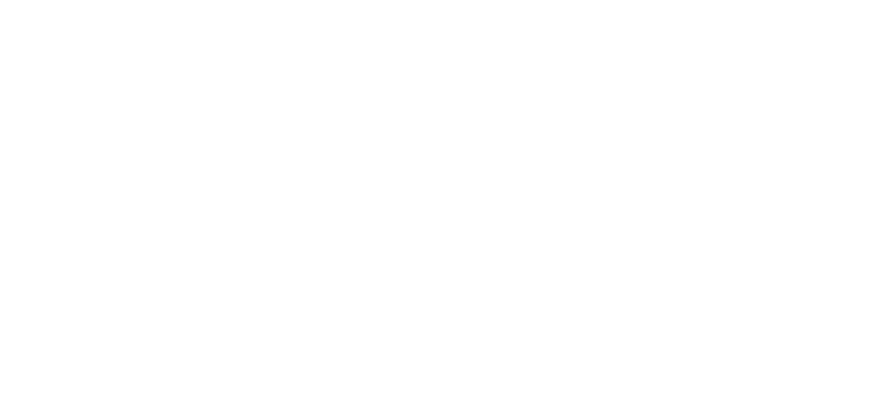
Варшава. Берлин. София. Собаки. Сложные обаятельные татуировки на спине твоей бывшей. Город двух других твоих бывших. Это ещё ничего. Тоске не хватает деталей. Скоро Стамбул – финальная точка твоего путешествия. Я уже начала наводить бессмысленные справки о том, помирились ли вы с С. Возможно, она славная, но я бы хотела, чтобы С. провалилась сквозь землю. Вместе с квартирами, где вы трахались, официантами, которые приносили вам кофе, гостями сельской свадьбы, автобусами, паромами, самолётами, нулями и единицами, звездным небом, Курдистаном. Любовь – это запоминать. Как-то я не ответила на открытку политзаключенного – ты сказала, что он с тобой флиртовал. Любовь – это быть мелочной.

Ограниченной

Ужасной.

Я полюбила зиму, потому что твои огрубевшие от мороза руки безошибочно находили мои. Посреди игольчатого строгого воздуха я снимала одну перчатку, чтобы идти, ощущая твою ладонь. Собаки бежали то впереди, то сзади, хрустя сухими стеблями гигантского борщевика. Из-за них постель всегда была полна песка, и, прежде чем лечь, я размашисто проводила ладонью по простыни, очищая и твою половину тоже. Впрочем, не было никаких половин: мы спали, обнявшись, где придется.

Нет, я точно знаю: эти воспоминания не ложны. Но я не в силах остановить ржавчину сомнения – ведь она существует, чтобы меня исцелить. Без этого смерть моей любви невозможна: мысль будет ходить по кругу, не теряя нежности, как это происходило месяцами.

Когда моих подруг задержали на антивоенном протесте, я позвонила тебе. Ты ответила, что не приедешь. Я поняла, что никогда тебе этого не прощу. Как и слова «я тоже люблю тебя» (ты имела в виду совсем не ту любовь).

Наш последний большой разговор тоже был о любви. Ты пересказала мне глупые слова своей С., и я разрыдалась, вдруг поняв, как чудесно и жалко ты ее любишь, как всепрощающе и великодушно. Я кричала тебе: «Она безумно тупая, она настолько хуже меня». Вероятно, это чистая правда, но это ничему не поможет.
Ты уходишь. Некоторое время я рыдаю в постели, прижавшись лицом к стене. За спиной раздается грохот: кот скинул со стола книги, и они попали в лужу Вариной мочи. Я поднимаю книги и несу в ванну. Сую под воду (сначала «Автобиографию красного» Энн Карсон, потом «Девять работ» Вальтера Беньямина и наконец «Воздушную тревогу» Полины Барсковой). У «Воздушной тревоги» прочная обложка, поэтому я долго держу ее под водой. Название сборника сливается с алым закатом, с темой блокады, с заботой о Варе, со стихотворением Барсковой о Тургеневе, где она сравнивает его с маленькой храброй крысой, – и наконец впадает в многомесячное ожидание твоей любви. Всё взрывается. Я открываю рот и кричу. А-а-а-а-а. Вода утекает сквозь пальцы. Замолкаю, перевожу дыхание и снова кричу.
Я представляю лица своих соседей, когда делаю это. Вот Марина с первого этажа, вот Сергей и его парализованная любимая жена, которую я никогда не видела и чьего имени не знаю. Мой крик станет одной из тем для общей вечерней беседы. Не знаю, сколько времени ему уделят: возможно, он станет центральной темой, но не исключено, что будет упомянут лишь вскользь. Здание КГБ в нашем дворе растет и достигло уже четырех этажей, и все интересуются этой стройкой.
Ты уходишь. Некоторое время я рыдаю в постели, прижавшись лицом к стене. За спиной раздается грохот: кот скинул со стола книги, и они попали в лужу Вариной мочи. Я поднимаю книги и несу в ванну. Сую под воду (сначала «Автобиографию красного» Энн Карсон, потом «Девять работ» Вальтера Беньямина и наконец «Воздушную тревогу» Полины Барсковой). У «Воздушной тревоги» прочная обложка, поэтому я долго держу ее под водой. Название сборника сливается с алым закатом, с темой блокады, с заботой о Варе, со стихотворением Барсковой о Тургеневе, где она сравнивает его с маленькой храброй крысой, – и наконец впадает в многомесячное ожидание твоей любви. Всё взрывается. Я открываю рот и кричу. А-а-а-а-а. Вода утекает сквозь пальцы. Замолкаю, перевожу дыхание и снова кричу.
Я представляю лица своих соседей, когда делаю это. Вот Марина с первого этажа, вот Сергей и его парализованная любимая жена, которую я никогда не видела и чьего имени не знаю. Мой крик станет одной из тем для общей вечерней беседы. Не знаю, сколько времени ему уделят: возможно, он станет центральной темой, но не исключено, что будет упомянут лишь вскользь. Здание КГБ в нашем дворе растет и достигло уже четырех этажей, и все интересуются этой стройкой.
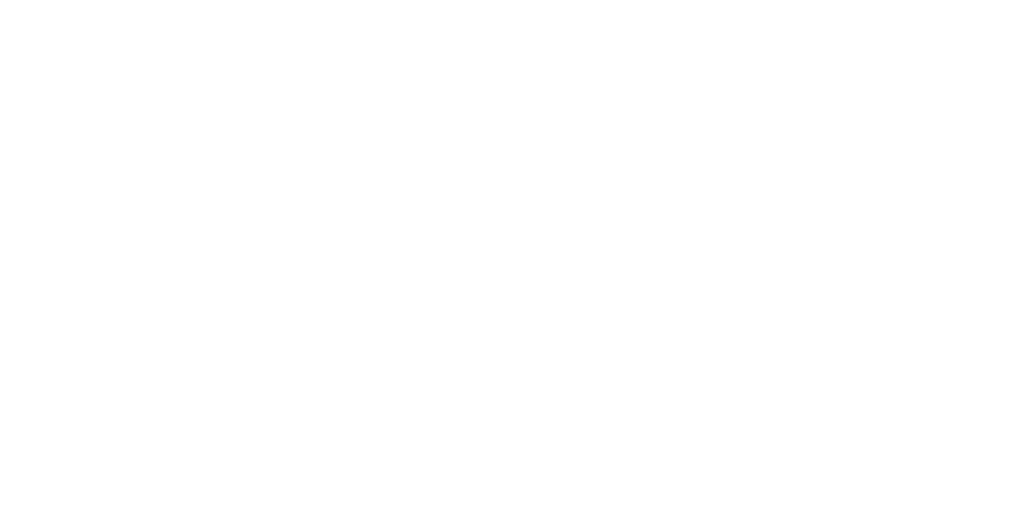
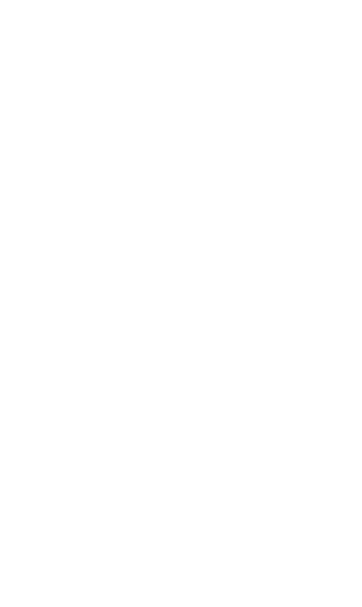
Разлука напоминает мне, кто я такая.
На корейском жестовом языке слово «терпи» показывают так: соединяют наружные стороны ладони и проводят косую линию от левого плеча к соску. Похоже на рану. Даже не на нее саму, а на процесс ранения. Слово «терпи» не предполагает подсказки, не даёт надежды, оно не отсылает метафорически к непременно счастливому будущему. Его реальность – это только рана, страдание, протяженность, зияние.
Я знаю про язык жестов, потому что мы с А. вчера посмотрели «Drive my car» Рюсукэ Хамагути. Фильм получил золотую пальмовую ветвь за лучший сценарий, но я об этом не знала. Просто в кино нет ничего другого из-за войны.
На корейском жестовом языке слово «терпи» показывают так: соединяют наружные стороны ладони и проводят косую линию от левого плеча к соску. Похоже на рану. Даже не на нее саму, а на процесс ранения. Слово «терпи» не предполагает подсказки, не даёт надежды, оно не отсылает метафорически к непременно счастливому будущему. Его реальность – это только рана, страдание, протяженность, зияние.
Я знаю про язык жестов, потому что мы с А. вчера посмотрели «Drive my car» Рюсукэ Хамагути. Фильм получил золотую пальмовую ветвь за лучший сценарий, но я об этом не знала. Просто в кино нет ничего другого из-за войны.

Каждую ночь нелюбовь становится сюжетом снов. Я лежу под лёгким серо-голубым одеялом, пока сон минирует мое тело сочетанием реальной и ложной памяти. Массив данных осязаемой нежности генерирует то, чего не случалось, но могло быть, и тактильный опыт, произведенный во сне, не отличим от настоящего. Он накапливается в виде тоски, которая днём придавливает меня к земле. Я сижу под низким рыжеватым каштаном и чувствую: мне конец.
В этих снах ты, как и в жизни, любишь другую. Когда у вас не ладится, ты приходишь ко мне, и я пытаюсь понять разницу между унижением и смирением, нежностью и безволием, любовью и ночным кошмаром. Я хотела бы смотреть на это спокойным и мудрым взглядом исследовательницы, но ядовитые волны надежды и боли подхватывают меня, кружа и запутывая. Когда звонит будильник, снова не могу встать: хочется длить наше грустное объятие. Я знаю: это прощание. Сны звучат как треск разрываемой ткани, как скрип рвущейся бумаги – сейчас громко, но скоро ничего не будет.
В этих снах ты, как и в жизни, любишь другую. Когда у вас не ладится, ты приходишь ко мне, и я пытаюсь понять разницу между унижением и смирением, нежностью и безволием, любовью и ночным кошмаром. Я хотела бы смотреть на это спокойным и мудрым взглядом исследовательницы, но ядовитые волны надежды и боли подхватывают меня, кружа и запутывая. Когда звонит будильник, снова не могу встать: хочется длить наше грустное объятие. Я знаю: это прощание. Сны звучат как треск разрываемой ткани, как скрип рвущейся бумаги – сейчас громко, но скоро ничего не будет.

Внезапно прерванное понимание оборванная нежность они причиняют так много боли я не могу дописать это предложение конечно это причиняет много боли это очень много боли причиняет это причина боли и что теперь как закончить это предложение.
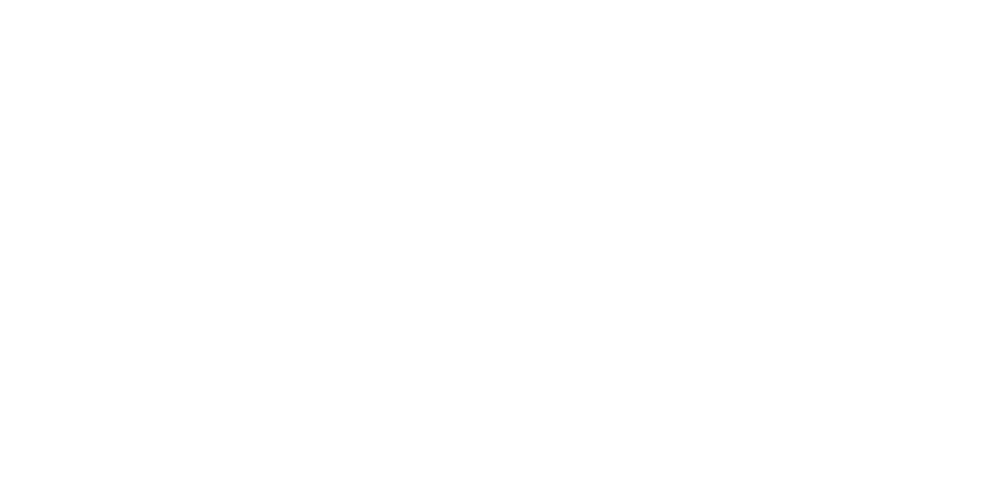
Я чувствую себя раненой, замёрзшей, любопытство, нежность и доверие, которые нужны для исследования мира, попятились, я часто моргаю, чтобы утрамбовать внутри ледяные ризомы, и пустота, сталкиваясь с пустотой, звенит. У православных колоколов округлый уверенный звук определенности, у льда и стекла – сирена внезапно разверзшейся пропасти. Знак «осторожно, впереди выезд на набережную».

Как мне мастурбировать, если всё, что могу представить – это ты, а всё, на что могла бы посмотреть в интернете – не ты? Выбирая между жалким и нелепым, я застываю в промежутке, воображая твое тело поверх порноактрисиного.

Я жду, что ты позвонишь со словами любви – и это про то, что Морозко в конце подарит пушистую шубу, про то, что угольщик Петер Мунк заколдован, и я вспомню слово «мутабор», и все его вспомнят, и мы перестанем быть косноязычными тяжёлыми людьми, превратимся наконец обратно в частицы, которые проникают друг в друга, смешиваясь, образуя симбиотическую ткань мысли, диффузию тотального понимания, из которого следует квантовая, кварковая, черная нежность.
Но нет – мы расстаёмся во время войны, в день, когда солнце ни на минуту не показалось из-за туч, когда ещё тысячи людей уезжают, подруга К., уезжает, уезжают А. и Г., которых я встретила сегодня в «Тидене». «Мы решили, что с нас хватит». «Она взяла билет до Варшавы на вторник. Она больше не может». Влада тоже уезжает. Я спрашиваю ее о твоих планах. Она перечисляет города, про которые думаешь. Там есть и Стамбул.
Но нет – мы расстаёмся во время войны, в день, когда солнце ни на минуту не показалось из-за туч, когда ещё тысячи людей уезжают, подруга К., уезжает, уезжают А. и Г., которых я встретила сегодня в «Тидене». «Мы решили, что с нас хватит». «Она взяла билет до Варшавы на вторник. Она больше не может». Влада тоже уезжает. Я спрашиваю ее о твоих планах. Она перечисляет города, про которые думаешь. Там есть и Стамбул.

Я помню, как затягивается любовная рана. На место любви приходит не другая любовь и не спокойствие – там остаётся шрам уродливой пустоты. Поверх шрама можно накладывать макияж новых увлечений, но тайна, будучи скрытой, только сильнее болит.
Пасмурно, и цветущие деревья нависают над дорогой как дополнительные земные облака.
Пасмурно, и цветущие деревья нависают над дорогой как дополнительные земные облака.

Я должна закончить это эссе, закончить, закончить, закончить. Каждый день я говорю Владе «вот сейчас» – и ничего не отправляю. Текст, кажущийся таким собранным и ясным по памяти, рассыпается при перечитывании. Сегодня я была твердо настроена довести дело до конца, но опять не смогла: дома бурили скважину, и я так волновалась, что не могла думать о тебе. Рабочие дошли до 75 метров, но воды всё не было. Сказав это, рабочий замолчал, ожидая моего решения. Я тоже молчала, не понимая, какие могут быть варианты, парализованная ужасом от того, что, возможно, заплачу огромные деньги за бесплодную отчаянную дыру на заднем дворе. Наконец рабочий сказал, что можно либо продолжать рыть здесь, либо попробовать другое место подальше. Я не смогла спросить, бывает ли так, что воду вообще не находят. Велела продолжать в том же месте: мы слишком далеко зашли, и одна бесполезная, но глубокая дыра лучше двух незначительных. Паника, связанная с деньгами, так сильна, что я не могу работать, но мозг продолжает связывать всё с темой этого текста, и я машинально сопоставляю бурение скважины с любовью. Метафора разворачивается словно бы без моих усилий, инерцией беспокойства и боли,
Текст не терапевтичен – создавая магнитное поле смыслов, он связывает всё с предметом письма, и вещи, бывшие безобидными, обретают смертоносную силу.
Текст не терапевтичен – создавая магнитное поле смыслов, он связывает всё с предметом письма, и вещи, бывшие безобидными, обретают смертоносную силу.

Я чувствую, что выбрала не те слова – ведь, читая, я не вижу твоего лица. С другой стороны, этот текст о моей любви, а не о тебе.

По вечерам я подолгу сижу под небольшим каштаном. Вокруг играют собаки, то заваливаясь на меня, то запрыгивая на большую черную сумку, которую приношу с собой. Я беру с собой книгу, но почти ничего не прочитываю. Мне нравится слушать, как Марина, владелица большой красивой лабрадорши, подначивает молодую веселую Настю. Мне нравится Марина. Иногда наши руки касаются друг друга, когда мы одновременно гладим собак.

Приближаясь к финалу текста, я все больше горжусь собой. Мысль о том, что С. никогда ничего подобного не напишет, сменяется пониманием, что ты и не хочешь такое читать, – и тут же уступает место спокойствию. Я не могу отменить боль от твоей нелюбви так же, как не могу заслужить твою любовь. Этим текстом я ничего не выигрываю. Я просто пишу его.

Вспоминая, я делаю прошлое гладким, округлым, компактным – поместится под язык, как валидол. Словно упорная вода, я полирую сцены, в которых В. была со мной нежна.
Она обхватывает мою лодыжку и тянет вверх, к своему лицу, наконец прижимает ступню к щеке.
Она опускает руку в воду, ощупью находит мою лодыжку, продолжая смотреть в глаза, и прикладывает ступню (гофрированная от жара кожа) к своей щеке (горячая, нежная).
Мы сидим в горячей ванне, раскрасневшиеся, сонные, и она вдруг нежно тянет из воды мою ногу, чтобы прижаться к ней.
Повтор.
Повтор.
Повтор.
Ее обветренная кожа, одновременно нежная и грубая, отдаляется от меня, становясь собственным описанием.
Она обхватывает мою лодыжку и тянет вверх, к своему лицу, наконец прижимает ступню к щеке.
Она опускает руку в воду, ощупью находит мою лодыжку, продолжая смотреть в глаза, и прикладывает ступню (гофрированная от жара кожа) к своей щеке (горячая, нежная).
Мы сидим в горячей ванне, раскрасневшиеся, сонные, и она вдруг нежно тянет из воды мою ногу, чтобы прижаться к ней.
Повтор.
Повтор.
Повтор.
Ее обветренная кожа, одновременно нежная и грубая, отдаляется от меня, становясь собственным описанием.
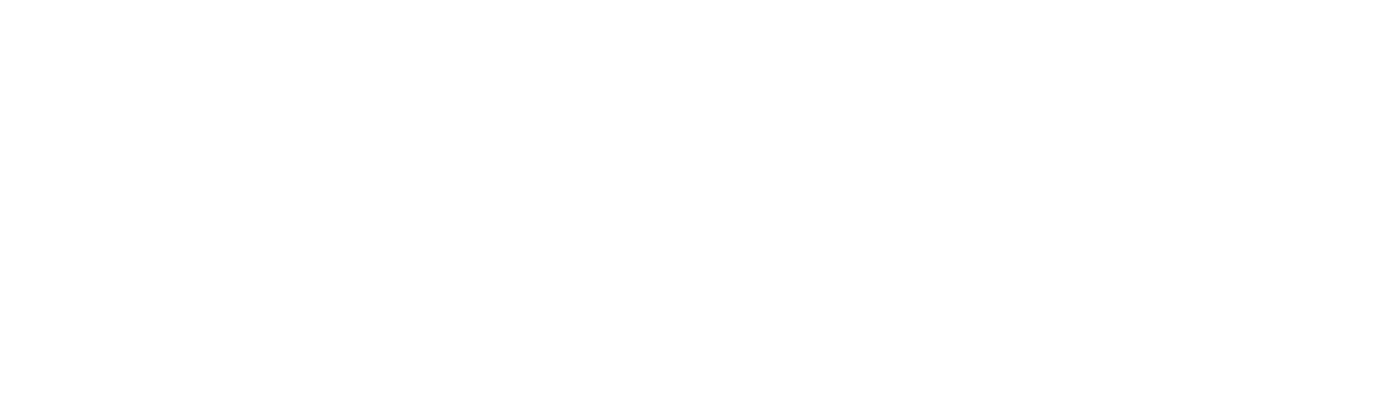
ДАР'Я ТРАЙДЭН
