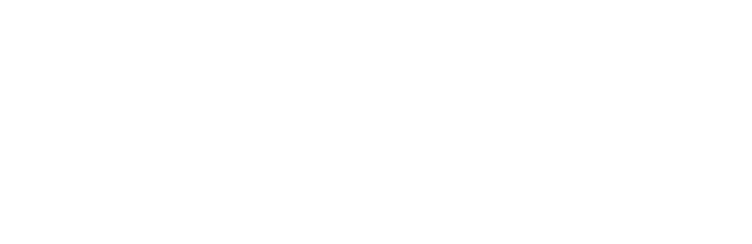Алёна П.
Сердце
Стоит признаться, что ни речь, ни письмо никуда меня так и не привели. Что все дороги, по которым я пока что ходила к этой осени 22 — сплошь болотистая вязкая местность, в которой все силы уходят на преодоление базовых физических законов, лишь бы только спастись. Когда-то мне казалось, что в этой борьбе заключена для меня истина и смысл всего, что я делаю, — внутренняя борьба на преодоление, волевые рывки над сгустком массы, чтобы не погрязнуть в ней всем своим телом, не утонуть. Спустя всё это время я так из этой массы не выбралась и, растратив все силы, уже не уверена в правильности способов и решений, которыми это пыталась. Может быть, я придумываю себе эту борьбу, чтобы мне было за что держаться, когда в очередной раз я на полной скорости спрыгиваю с открытого вагона в болото? Может быть, в этом заключается моя нескончаемая попытка саму себя пересоздать и обрести ценность через заново совершаемые кульбиты телесных движений? Может быть, тот мой бег, которым я спасаюсь от болота, затягивает меня с каждым рывком всё глубже, и на деле, наращивая скорость, я спасаюсь от себя? И самое роковое, пугающее меня в своей подозрительной тревожащей правоте: может быть, стоит расслабиться и позволить болоту поглотить себя, чтобы увидеть, что же там, в его плотных слоях, находится?
Когда я пишу «болото», я не говорю про политику и не говорю про Беларусь. Это необязательные коннотации, о которых я невольно помню и думаю, но оставляю за скобками. Болото — это даже не климатическое состояние природы, не рельеф и не местность, но лейтмотив моих условно-обстоятельственных перемещений, может быть, немного цвет и запах.
Когда я пишу «болото», я не говорю про политику и не говорю про Беларусь. Это необязательные коннотации, о которых я невольно помню и думаю, но оставляю за скобками. Болото — это даже не климатическое состояние природы, не рельеф и не местность, но лейтмотив моих условно-обстоятельственных перемещений, может быть, немного цвет и запах.
К двадцати пяти годам я обнаруживаю себя и свою жизнь протухшим куском сыра, о котором кто-то забыл. Выбирая свободу (борюсь с самой абсурдностью этого словосочетания прямо сейчас) в качестве факельного ориентира для своей жизни, я так и не научилась видеть в этом выборе строгую ответственность, которая отягощала бы мою жизнь ещё сильнее и больше, чем если бы такой выбор не был бы совершен. Выбирая свободу, я сразу обрекла себя на ценностный принцип фильтрации, с помощью которого деятельность, люди, условия рассеивались во времени, и оставался только воздух — и именно его оставалось мне брать. Находясь на перекрёстке всех своих решений, которые привели меня сюда, именно сюда в этот вечер, мутновато-жёлтый и зябкий от обрушившейся резко осени, которую я так люблю и к которой я так не готова (насколько сопряжены любовь и готовность?), я не уверена, что действовала правильно, я не уверена, что эта правильность нерушимо существует. И не уверена, что стоило саму себя в эту болотистую местность втягивать, о чём я думала?
Свобода, которой мне хотелось придерживаться, была вымышленной фантазией, всё ещё ей остается. Эта лёгкая, ничего не требующая вера в безграничное перемещение, и я никому в этом не принадлежу, ни к чему не привязываюсь, не обладаю обязанностями и необходимостью в обязательствах, обещаниях и подчинении, я сама себе дикий тайфун, который куда-то там двигается, и фиг пойми вообще куда. Вот какой свободы я хотела: быть всегда гибкой, сбросить с себя все обязательства и долженствования, опрокинуть заготовленные ответы, сдёрнуть скатерть с расставленными на мою жизнь ставками, чтобы они рассыпались под моими ботинками, становясь гравийной пылью. Мне хотелось быть где угодно, но только не здесь. Где угодно, лишь бы не принадлежать существующему порядку окруживших меня вещей, выпасть из их строгой геометрии, перестать быть фигурой на доске и не подвергать себя съедению королевой. По правде, я всё ещё хочу.
Руководствуясь выбранной логикой, я отбрасывала все, что требовало от меня присутствия. И ответа. Выскальзывая из работ, учёб, проектов, дружб, я возвращала себе каждый раз откушенную Другим свободу, и мне казалось, что я ну вот ни за что не готова этим чувством поступиться. Я всё ещё не знаю, верно ли я поступала, сколько было в этом трусости, а сколько действительно храбрости и чего было всё-таки больше. Особенно в ситуациях, когда предлагаемая стабильность больших денег была для меня отчаянием и экзистенциальным ужасом и автоматически категоричным отказом, а потом сразу ещё одним отчаянием и экзистенциальным ужасом.
Вчера я отдала треть своей зарплаты на внеплановые анализы у гинеколога — я никогда так сильно не жалела о том, чего не желала. Но тогда, утром первого рабочего дня, я в ужасе смотрела в окно — там почему-то всегда шёл мелкий серый дождь — и не думала ни о чём другом, кроме как о желании умереть, ежесекундно, лишь бы не идти и не окунаться во всю эту вынужденную, придуманную, сдавливающую меня рутину. Я могла стоять так часами в нерешительности перед шкафом, перед зеркалом, перед окном, уламывая себя сдаться и пойти, уговаривая себя попробовать — ну а вдруг, успокаивая себя тем, что всегда можно уйти, что нельзя спешно делать выводы, что никто меня ни к чему не призывает, что это важный и взрослый шаг и пора бы уже подумать о своём будущем, о нужности накоплений, о необходимости решить все наболевшие вопросы и ни на кого больше не рассчитывать, потому что ты одна в этом мире и никто о тебе не позаботится, и что ты вообще тут вздумала, испугалась, трусиха что ли, ты же умная девочка, сколько можно откладывать все эти решения и перекладывать ответственность, сколько можно заниматься всякой ерундой и отвлекаться на второстепенное, пора бы уже повзрослеть, и перестань страдать.
Никогда мне не было так жутко невыносимо противно, как в эти моменты.
Полыхающий ветер всё ещё куда-то несёт меня. Но я отказываюсь знать, куда. Не думаю, что это знание мне хоть что-нибудь откроет или хоть как-то поможет. Говорю же, речь и письмо пока никуда меня не привели, но они явно меня от чего-то развернули.
По какому принципу спиливаются деревья?
Руководствуясь выбранной логикой, я отбрасывала все, что требовало от меня присутствия. И ответа. Выскальзывая из работ, учёб, проектов, дружб, я возвращала себе каждый раз откушенную Другим свободу, и мне казалось, что я ну вот ни за что не готова этим чувством поступиться. Я всё ещё не знаю, верно ли я поступала, сколько было в этом трусости, а сколько действительно храбрости и чего было всё-таки больше. Особенно в ситуациях, когда предлагаемая стабильность больших денег была для меня отчаянием и экзистенциальным ужасом и автоматически категоричным отказом, а потом сразу ещё одним отчаянием и экзистенциальным ужасом.
Вчера я отдала треть своей зарплаты на внеплановые анализы у гинеколога — я никогда так сильно не жалела о том, чего не желала. Но тогда, утром первого рабочего дня, я в ужасе смотрела в окно — там почему-то всегда шёл мелкий серый дождь — и не думала ни о чём другом, кроме как о желании умереть, ежесекундно, лишь бы не идти и не окунаться во всю эту вынужденную, придуманную, сдавливающую меня рутину. Я могла стоять так часами в нерешительности перед шкафом, перед зеркалом, перед окном, уламывая себя сдаться и пойти, уговаривая себя попробовать — ну а вдруг, успокаивая себя тем, что всегда можно уйти, что нельзя спешно делать выводы, что никто меня ни к чему не призывает, что это важный и взрослый шаг и пора бы уже подумать о своём будущем, о нужности накоплений, о необходимости решить все наболевшие вопросы и ни на кого больше не рассчитывать, потому что ты одна в этом мире и никто о тебе не позаботится, и что ты вообще тут вздумала, испугалась, трусиха что ли, ты же умная девочка, сколько можно откладывать все эти решения и перекладывать ответственность, сколько можно заниматься всякой ерундой и отвлекаться на второстепенное, пора бы уже повзрослеть, и перестань страдать.
Никогда мне не было так жутко невыносимо противно, как в эти моменты.
Полыхающий ветер всё ещё куда-то несёт меня. Но я отказываюсь знать, куда. Не думаю, что это знание мне хоть что-нибудь откроет или хоть как-то поможет. Говорю же, речь и письмо пока никуда меня не привели, но они явно меня от чего-то развернули.
По какому принципу спиливаются деревья?
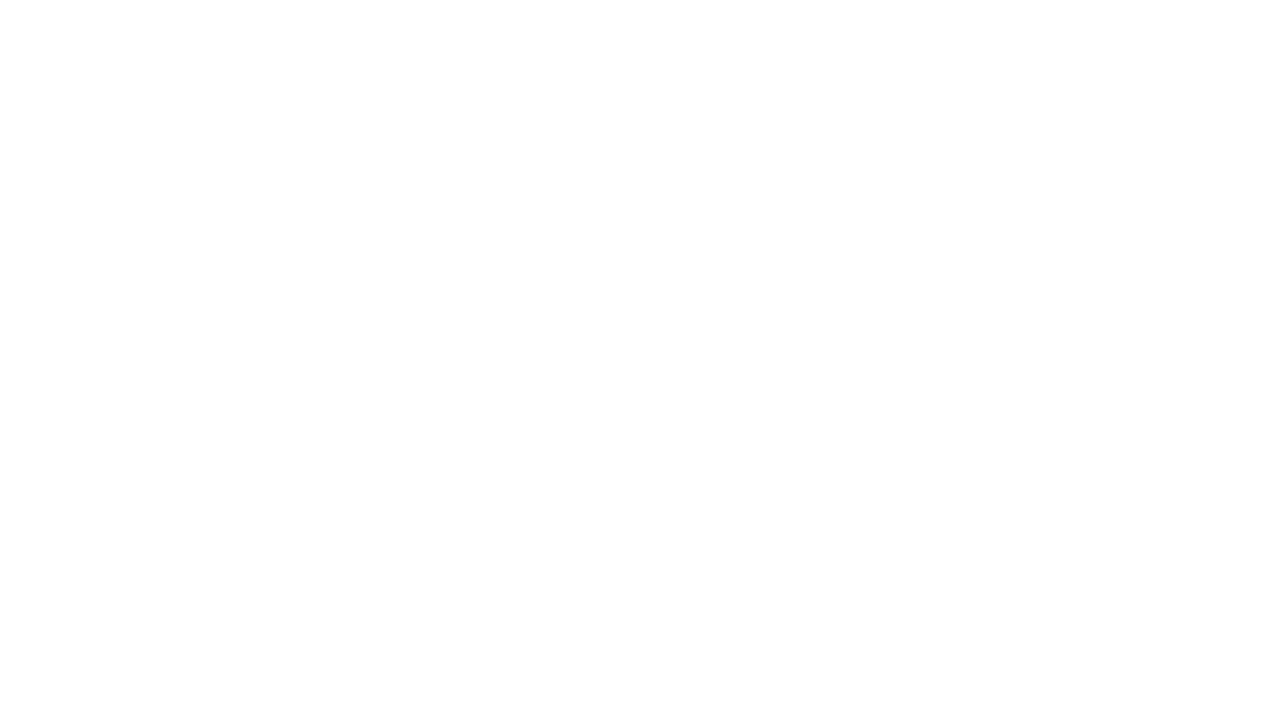
Всё, что остаётся мне сегодня, — это ты и моё сердце. Ты уедешь/уйдёшь/сдвинешься в какой-то момент, то есть формально тоже не останешься. Сердце же остаётся — пока, если я его не предам — земле, форме болотистых сгустков, уходящей_му тебе. Выбираемая мной свобода сваливает на сердце необходимость мириться с перманентно испытываемой болью, страхом и тревожным предчувствием последствий (этих самых чувств). Свобода обрекает моё сердце быть трепещущим на ветру флагом, скорее всего пиратским, и ориентиром в движении при самых жёстких и пугающих условиях. Она же обрекает моё сердце на износ — и это тоже я чувствую своим нутром: чуткость реагирования на мелочи, малость необходимости в том, чтобы пораниться или встрепенуться, как тихо и яростно и жутко оно бормочет при виде тебя и как тревожно отстукивает при твоём отсутствии. Отдав столько сил и времени постоянному поиску истины внутри сложно оформленных структур, я всё равно обращаюсь к своему сердцу как к единственному проводнику во внешний мир. Оно каждый раз подводит меня и подводит верно. К этим окнам, дверям и шкафам, перед которыми я оказываюсь так близко, что не могу распахнуть. Так и стою, всматриваясь в них, прикасаюсь легонько ладонью, краешками пальцев, о чём-то договариваюсь с ними, договариваюсь, шепчу.
Вчера я поняла, что стыжусь каждого своего слова. Не того, которое показалось мне сказанным не вовремя и нелепо на одной из дурацких посиделок с крашем в баре, или неуместно использованным в гостях при разговоре о беженцах, или сказанным в описании к книге, которую я рекомендую нетерпеливой паре в подарок на свадьбу, но вообще вот — каждого. Мне стыдно за все слова, которыми я вроде как владею, владела, собираюсь владеть, и за все те, что окружают меня в воздухе неозвученным вихрем. Мне стыдно отрывать слова от сердца в пространство твоих ушей, мне стыдно отбирать их у тебя и прятать во внутренние щели, мне стыдно шутить и тем самым раскрывать свои бо(л)евые ранения и слабости, мне стыдно говорить серьёзно и по делу, заявлять о мнении, сформулированном в слове, мне стыдно молчать и позволять тишине задавить все звуки моего голоса, мне стыдно собирать из слов стихи и тексты, хоронить их в архивах, мне стыдно говорить о словах как о чём-то живом и мне стыдно, когда я своими же руками их убиваю. Мне стыдно за все мои попытки письма, за каждые попытки письма, которые так и остаются попытками под пытками моего стыда. Мне стыдно брать слова на себя, вскидывать их вес на свои плечи и тащить вечно неизвестно куда и зачем, мне стыдно сбрасывать их с себя как одежду и оголяться, оставшись совсем без них. Мне стыдно постоянно жаждать победы слов, бороться за возврат им значений и значимости, за твердолобую убеждённость в том, что слова — инструмент и строительный материал, глина и рожь, родниковая вода и меч. Мне стыдно за то, как сильно я их люблю, за что я их так сильно ненавижу. Мне стыдно с ними бороться, в них вязнуть, быть одержимой и поглощённой тем, куда они меня ведут. Мне стыдно оказываться преданной этими словами, использованной, раненой. Мне стыдно описывать словами воздух, свойство взаимного взгляда и как это — любить. Мне стыдно доверять словам всю себя, доверять всю себя словам другого, особенно твоим. Мне стыдно не знать каких-то слов и стыдно знать слова, которых не знают другие. Мне стыдно, что я не могу при тебе связать слов, не могу их из себя достать, не могу родить. Мне стыдно, что я умею это делать, а теперь не могу — я боюсь, что никогда не смогу этого с тобой. Мне стыдно писать и отдавать этому действию всё своё свободное время, свои силы, внимание и чувства, тонны бумаги и стержни чёрной гелевой ручки 0,5 мм. Мне стыдно писать это всё прямо сейчас — стыдно признаваться словами в своём стыде. Мне стыдно, что эти слова будут прочитаны, осмыслены, а хуже всего — отброшены и отвергнуты. Мне страшно стыдно.
И всё-таки я пишу, и, может быть, преодолевая этот стыд, оголяясь больше дозволенного самой себе, больше привычного и знакомого опять и опять, я обрекаю себя одеться — и открыть наконец двери шкафа. Может быть, я позволю словам быть такими и просто быть. И пусть они стыдятся за себя сами. Я постою в стороне, понаблюдаю за ними, послушаю, позволю им быть замеченными, отпущу их в пространство видимости, верну им свободу или хотя бы верну им вес. Или хотя бы себе — свободу.
По какому принципу высаживаются деревья?
И всё-таки я пишу, и, может быть, преодолевая этот стыд, оголяясь больше дозволенного самой себе, больше привычного и знакомого опять и опять, я обрекаю себя одеться — и открыть наконец двери шкафа. Может быть, я позволю словам быть такими и просто быть. И пусть они стыдятся за себя сами. Я постою в стороне, понаблюдаю за ними, послушаю, позволю им быть замеченными, отпущу их в пространство видимости, верну им свободу или хотя бы верну им вес. Или хотя бы себе — свободу.
По какому принципу высаживаются деревья?